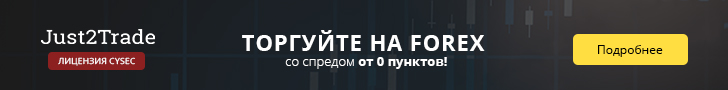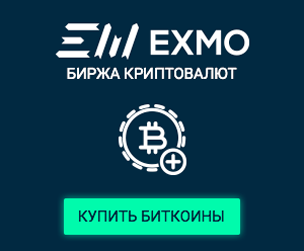Документальные кадры взятия Львова и Киева сменяются кадрами освобождения этих городов. Дальше следует хроника процесса над нацистскими преступниками. Затем — кадры казни. Где-то между — листовкой, интертитром, серией «невзрачных» фотографий Йоханнеса Хеле — происходит массовое убийство, местом которого 29 и 30 сентября 1941 года стал Бабий Яр.
О чем фильм «Баабий Яр»

Бабий Яр — место массового убийства людей фашистами и украинскими коллаборационистами во время Великой Отечественной войны
Молчащая последовательность кадров фильма заставляет вглядываться в каждый образ и каждую сцену. Здесь не разворачиваются знакомые сюжеты, привычные истории, разве что один — сюжет о той самой войне. Да и тот — всё больше за кадром — восстанавливается редкими краткими интертитрами и уже самим зрителем. Неспешный темп — одна сцена, посвящённая небольшому событию, сменяется другой, говорящей уже об ином. Кадры полнятся деталями, позволяющими вспомнить о stadium’е и punctum’е. Первый словно дополняет общую историю, хронологическую последовательность из главы учебника, дарит новые иллюстрации к ним. И заявляет о факте неминуемого. Второй — наполняет каждую сцену чем-то невыразимым и невыносимым. Фактом реального.
Естественность, будничность, обыденность, банальность. Каждая сцена — словно сама в себе, будто хочет зафиксировать нечто конкретное — состояние именно события, детали, тела, жеста. Положение мира именно в этом моменте времени. Оттого камера — внимательна, сосредоточена, холодна и беспристрастна. И не важно, снимает она трупы — сначала советских, потом немецких солдат. Или же тех, кто дарит цветы, — сначала немецким солдатам, потом советским. Тех, кто срывает портреты, — сначала Сталина, потом Гитлера. Или же сцены быта — при оккупантах и после освобождения. Или кадры процесса и казни.
Эта неспешность хода плёнки, обречённой на трагическую объективность, медленно удушает зрителя. Плёнки, которая всё равно была неспособна зафиксировать факт очередной катастрофы, сводящей всё человеческое — до функции, до алгоритма действия.
И это визуальное умолчание создаёт лакуну, от которой исходит трудно артикулируемое излучение. Лакуну, медленно стягивающую всё визуальное наполнение картины к единственному факту отсутствия.
Есть только — в самой середине фильма — интертитр, несколько цветных фотографий Хеле с видами рва и кучами одежды, листовка, приказывающая всем киевским евреям явиться «в понедельник 29 сентября 1941 года к 8 часам утра на угол Мельниковой и Доктеривской улиц (возле кладбищ)». Сцен расстрела никогда не были засняты, и сцен с украинскими евреями почти нет в фильме, за исключением разве что — страшных, жутких в своей предельной телесности — кадров погрома во Львове.
Бабий Яр — человеческая катастрофа
Это визуальное умолчание создаёт поразительное ощущение некой парадоксальной естественности случившегося. Невыносимой банальности катастрофы, у которой не было права на изображение. Банальности как фактичности, которая только оглушительнее становится во время сцен процесса. Говоримое слово — как попытка артикуляции случившегося — всё равно упирается во что-то простое (слова — это всегда просто), в механизм действия тела, в порядок жестов. В банальность и фактичность самого тела. И так акты говорения словно не в состоянии соотноситься с событиями, о которых рассказывают свидетели и непосредственные участники (жертвы и палачи).
Есть только слова и вещи. Есть только факт истребления. От которых катастрофа предстаёт как ветхозаветное действие. И ветхозаветное же молчание.
И за убийство ответят убийством. И за умерщвление тысяч — под взглядами сотен тысяч — свершится правосудие (жуткими, пугающими кадрами — банальности жеста и смерти тела). И за умерщвлением тысяч — придёт забвение.
Но есть слова и вещи. Обречённые на своё существование и говорение.
Во многом следуя методу и сюжетной схеме «Блокады» (2005), «Бабий Яр. Контекст» становится не менее оглушительным в своей тишине опытом. Экранным действием, которое оставляет зрителя только с фактами реальности, за которыми начинает проступать нечто поистине страшное, жуткое. Это кино большой боли, которая должна быть проговорена. Боли, о которой должен услышать каждый.